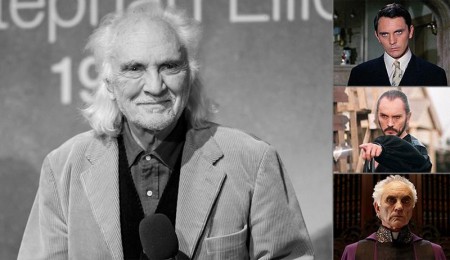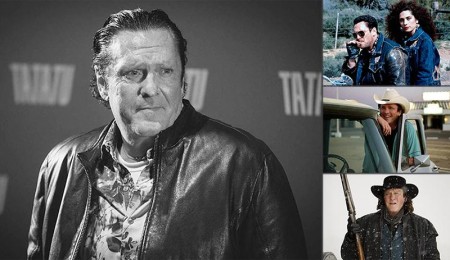Послание друзьям… из мира тишины
Умер поэт Анатолий Кобенков. Сколько раз приходилось писать о нем при жизни и по поводу жизни — вышла ли книжка, случился ли юбилей; а то он привез к нам свой очередной фестиваль поэзии или устроил в Иркутске выездной круглый стол по проблемам толстых литературных журналов… Но как говорить о нем словами «был», «писал», «говорил»?!
Полтора года назад Анатолий Кобенков перебрался с семьей в Москву — там когда-то учился в Литинституте, там были друзья и однокашники, туда уводили душевные и духовные связи. Может быть, тесновато стало в Иркутске… Одним словом, перебрался, — но для иркутян остался по-прежнему своим. Иркутянином его многие считали и тогда, когда он жил еще в Ангарске, а уж переехав в областной центр, он стал своим и подавно. Да и сделал для Иркутска очень много. Он работал в журналистике — несколько лет в «Молодежке», потом — в толстой газете «Зеленая лампа», посвященной культуре; он вел авторскую передачу на телевидении; он консультировал молодых в Союзе писателей…
Кстати, о союзах. Когда-то он вступал в общий — Союз писателей СССР. После раскола в рядах собратьев ему ближе оказался союз «евтушенковский» (СРП), и вскоре он возглавил в Иркутске организацию Союза российских писателей. Для нее, для своей организации, он выходил у городской администрации Дом литераторов, который отремонтировал, привел в рабочее состояние, навел в нем уют. Там стали собираться иркутские литераторы для своей работы — обсуждали рукописи и книги, проводили выставки иркутских художников, здесь работали над альманахом «Иркутское время», здесь принимали гостей — участников круглых столов, поэтов, прилетавших на им же придуманный и организуемый ежегодно фестиваль поэзии на Байкале…
Но отношения с Иркутском при всем том не были безоблачными. Горько сегодня об этом говорить, но находились здесь люди (впрочем, судя по нелюдским поступкам, скорее нелюди), способные написать (!) и анонимно опубликовать (!) некролог на него, живущего и работающего поэта. В чем была его вина? Все просто: всегда были и есть серые Сальери, которые не прощают другим таланта. И ему этот «грех» простить не могли. А у Кобенкова было еще одно «слабое место». Сегодня, когда еврейский вопрос раздувают на пустом месте, быть человеком этой национальности — уже проступок…
Он болезненно переживал такие выверты, понимая, что ответом на подобное может быть только его невозмутимость и — работа, работа, работа. То есть — поэзия.
И он работал, находя на это и время, и душевные силы, и выпустил двенадцать книг, каждая из которых достойна отдельного разговора. Он оставался Поэтом милостью Божией, и попадать под обаяние его музы — это настоящее читательское счастье.
Работал, — но, как он сам признавался, не мог порою не чувствовать себя чужим в родном городе, одиноким — среди многочисленных друзей и поклонников. Может быть, такова вообще природа поэта — идти в мир с обнаженным сердцем, даже когда чувствуешь, как в эту обнаженность летят грязные камни. И писал он, храня в душе и эту любовь, и эту боль. Писал — о друзьях и одиночестве, о маме и безвестном парикмахере, о муравье и овраге, о жизни и смерти, — с легкостью превращая каждую тему в большую и значительную, делая каждое живое существо не только центром своего внимания, но и центром Вселенной. Он много думал о душе и о смерти, о божественном в человеке и о Боге, непостижимом для человека… Вслед за ним и мы, это читающие, приподнимаемся над суетой и становимся как минимум добрее.
Да, его книги мы будем читать и читать, воспринимая стихи как диалог с другом, ушедшим в тишину… Ушедшим навсегда.
Прости нас, Толя…
Любовь Сухаревская
Анатолий Кобенков
Строка, уставшая от странствий
Послание друзьям
Летят года, торопятся…
Увы,
растут долги — попробуй рассчитаться…
Друзья мои, мне помнится, что вы
умели жить, и плакать, и смеяться…
В который раз нам желтый лист кружит,
в который — соловьи отголосили?
Так юность далека,
что кутежи
нам даже жены верные простили —
куда она, с кем песенки поет
в каких краях печали рифмой лечит?
Уже мой семилетний обормот
не верит в то, что были вы беспечны…
Я помню, как ходили вы вразнос,
бледны от голода и общежитских шумов,
как вы любили,
думая всерьез
о том,
о чем забыли нынче думать…
Друзья мои, как труден наш союз
в средине дня на первом перевале!
Молюсь земле,
кузнечикам молюсь,
чтобы они о вас не забывали,
стучусь в деревья,
кланяюсь ручью,
далеким звездам и дорожной пыли…
Ни долгих дней,
ни славы не хочу —
хочу, чтобы о вас не позабыли…
В полночный час сойдемся за столом,
махнем на годы и вина пригубим…
Давайте будем счастливы потом,
когда несчастных рядышком не будет,
давайте будем молоды сейчас,
сейчас — бездомны
и сейчас — пристрастны,
хотя бы потому,
что после нас
земле и людям стоит быть прекрасней,
Хотя бы потому,
что наш успех
придет не так,
как мы того желали
в начале дня,
чтоб досчитаться всех
в средине дня на первом перевале…
* * *
Тонко-тонко пахнет подорожник, —
ночью дождик раны врачевал,
подходил к палатке осторожно,
ни одной ромашки не примял;
ночью птицы нехотя молчали,
комары просились на постой…
Жизнь моя с любыми мелочами
показалась доброй и простой…
Что бы мне друзья ни говорили,
чем бы свое сердце ни обжег, —
я подумал:
зря мне подарили
острый нож
и меткое ружье.
Кто обидит:
островок в тумане,
Камень, покатившийся в Байкал?
Или ты, кузнечик,
что в кармане
у меня всю ночку ночевал?
* * *
Зимой, весною, осенью и летом
Я вас любил.
Вы помните об этом?
Я приносил вам самый первый снег,
который таял на ресницах ваших,
а если вам ночами было страшно,
я вместе с ним являлся к вам во сне.
Зимой, весною, осенью и летом
Я к вам спешил.
Вы помните об этом?
Я приносил багул вам по весне,
и ваши стены розовыми были,
а если вы кого-нибудь любили,
я вместе с ним являлся к вам во сне —
зимой, весною, осенью и летом
я вас любил.
Вы знаете об этом.
Я стал цветком, засохшим на окне,
листком, истлевшим в книжке позабытой,
и, может быть, поэтому сердитым
я всякий раз являюсь к вам во сне
зимой, весною, осенью и летом…
Я не устал.
Не думайте об этом.
Прощание с оврагом
Я — Анатолий, ты — овраг,
а те, кто
нас разлучат, не ведая о том,
что мы друзья —
Прораб и Архитектор,
Какой-то ЖЭК и некто Управдом…
И грянут свадьбы, захлебнутся тризны,
вздохнут борщи, срифмуются тела
над корочкой, что мыши не догрызли,
над лебедой, что тьму не допила…
Над тенью света, сетью краснотала,
Моноклем филина и кашлем мотылька
Взойдут дома, распустятся кварталы,
Опустится всеобщая рука
на перышко, пропахшее скворешней,
на старые — из детства — корабли
и на тебя,
единственно безгрешный
мой родственник по линии земли…
* * *
И ты меня переживешь,
мой ангел,
а пока
переживи со мною дождь,
дорогу, облака,
сирень, которая цветет,
а завтра отцветет,
свирель, которая поет,
а завтра отпоет,
и смерть,
которая придет
и к деду отведет…
Переживи меня, мой друг,
не покидай, мой друг,
ни первый луч, ни дальний луг,
ни предвечерний звук…
Ты рядом, но уже сейчас
я говорю: любил, —
чтоб свет, которому без нас
и белый свет не мил,
светил тебе и в дальний час,
как час назад светил…
* * *
Все на свете остается —
ты уйдешь,
но не уйдут
ни деревья, ни колодцы.
Что во тьме тебя найдут.
Ты и мнишь себя счастливым
оттого,
что все твое
остается —
и крапива,
и ожоги от нее…
* * *
Спасибо лесу
за то, что — лес,
лосю — за то, что лось…
нравится мне,
что для этих мест
трактора не нашлось…
и там — тишина, и здесь — тишина,
залежи тишины!
И коли не трогает их страна,
Они для нее важны —
Спасибо!
За небо, что над рекой
возится в камыше,
за то, что трубке моей
легко
дышится в шалаше…
Все, что надобно, — под рукой,
рядышком,
при душе…
* * *
Только подумаю, что со мной сталось, —
разом полынь на губах:
все, чем я мыслил себя, пораспалось
в урночках или гробах…
Комья на крышках, звезды на крышах… —
Вот вам и весь матерьял
жизни, что трогал, правды, что слышал,
радости, что растерял…
Стансы
После грома развилка горчит грибами,
после гама — воздух — твоими губами
переслащен, но солон… После семи
хорошо прикладываться стихами
или к долу, который забит гробами,
или к дому, который набит детьми.
После блуда не стоит тревожить Бога
ни молитвой, ни дойной или эклогой —
придержи для ада свое добро…
Жизнь танцует от печки, а смерть — от порога,
но у той и этой саднит дорога
под лопаткой, притом, что и лес — в ребро.
После долгой жизни: что брус, что никель —
все равно; плевать, за какой стеной —
земляной иль глиняной — кто вас кликал,
над какою люлькой взошла грустника,
из какой — ей встречь — поднялась болика
и какая прет из тебя брусника,
затыкая губы твои тишиной…